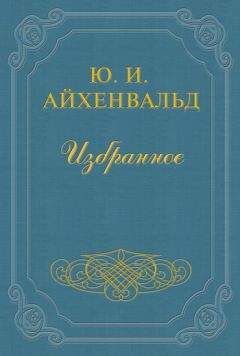Сложнее обстоит дело там, где наш специалист краснаго словца и приятнаго вздора не справляется с психологией, не сводит ея концов с концами, выдумывает самыя души человеческия. Он впадает в шарж, в преувеличение и преуменьшение и, например, в «повести о совестливом мужике» делает неправдоподобными и самого мужика, и его совестливость, и его людское окружение. И опять, хорошо знаешь, что выдумывает автор, – но с интересом следишь, куда его поведет эта широкая выдумка, в какия фантастическия воды уплывет ни руля, ни ветрил не знающая ладья его писательской прихоти. Свободный художник, вольный художник, он не стесняется к соучастию в своих разсказах привлекать и нечистую силу, к которой он весьма внимателен и которая всегда может явиться там, где многих звеньев недостает в цепи естественной, в ряду психологическом.
Но вот здесь, среди безмерных несообразностей, которыя, впрочем, нисколько не возмущают, среди всевозможных комбинаций авторскаго произвола, возникающих легко, от перваго же прикосновения пера к бумаге, встречаются у Толстого и такия, которыя, будто-бы нечаянно и неведомо для него самого, затрагивают серьезныя и сердечныя темы человека. Так, больно за сумасшедших, про которых читаешь у него, – про этого студента, который «медленно брел по тротуару, стараясь думать о вещах обыденных, но мысль его, как испорченное часовое колесо, соскакивала и вертелась в направлении противоположном». Голова у несчастнаго, казалось, «была расколота на маковке и туда насовали окурков». Пленила сумасшедшаго прекрасная балерина, и когда он, в результате своего безумия и своих страданий, в петлю полез, тогда – представилось ему – «влетела в сарай балерина, распахнув соболью свою шубку, охватила Прошку за шею и прижалась тесно… и на лицо ему, не давая дышать, легла меховая муфта». Это разумеется нежно и красиво; и впечатление не слабеет, а новыми оттенками обогащается, когда прибавляет автор: «так окончился глупый и ничтожный круг Прошкиной жизни». В глупый и ничтожный круг человеческих биографий заинтересованно входит Алексей Толстой и умеет привлечь к нему жалость. Безсмысленное удается ему не только описывать, но и показывать как предмет наших симпатий. Из омута нелепости в таком прекрасном светевыходит дьяк Матвей Паисыч, отец артистки, перед нею благоговеющий. Кругом – жизненная чепуха. Уездный предводитель дворянства Тараканов является в Париже к маршалу Мак-Магону, оставляет карточку «Wadim, мол, Taracanoff, marechal de Noblesse». Удивился Мак-Магон, – никогда про такого маршала не слыхал, отдал на всякий случай визит Тараканову и выслушал от него вопрос: «пуркуа, мол, пердю Седан»… Дочь русскаго «маршала», «худая как вормишель», стихи пишет, коньяк пьет, а больше всего купается в той же стихии безпросветнаго вздора. Почтовый чиновник Крымзин, собственной жизни не имеющий, а живущий жизнью и любовью тех чужих корреспондентов, чьи письма он распечатывает, гипнотизирован черной кляксой на обоях, символом его прозябания, ненавидит ее до тошноты, и головной боли, и в конце концов от нея, от этой кляксы, и от жизни своей, кляксе подобной, сходит с ума. Для одинокаго существа живут в комнате «следы прошлаго одиночества, словно цветки на желтых обоях, на которые во время болезни глядел, обводя их сухим пальцем». «Человек, господа, как раковина: снаружи корявый и жесткий, приоткроешь – внутри слизь, а в ней матовая слеза – драгоценнсоть… Нет, извините, я плохо не думаю о человеке».
Вот эти человечески значительные штрихи подымаются над беззаботной несообразностью Алексея Толстого. Писатель больших неожиданностей, он не выбирает, не обдумывает, берет из жизни первое, что попадется; он может облюбовать подробность, не думая о целом; он может просто хронологически, в порядке времени, а не в порядке важности, переходить от явления к явлению, от предмета к предмету, цепляясь легкой мыслью своею за их разсеянный частокол. Но среди пестраго улова, который попадает в его невода, случайно встречаются иногда ценныя и серьезныя приобретения – некий дар безпечному рыбаку, благосклонное возмездие таланту.